МЫ – САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ Интервью экспертов фонда «Нораванк» главному редактору журнала «Анив» К.Агекяну
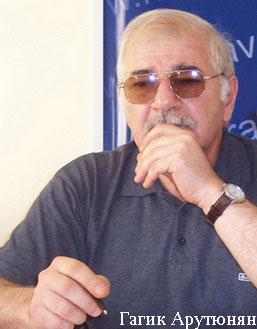 С самого начала встречи в фонде «Нораванк» мы договорились не затрагивать злободневных политических тем (президентские выборы и пр.), которым в армянских СМИ уделяется достаточно много внимания. Мы решили обсудить более концептуальные темы, а для начала - поговорить о самом фонде, представить его работу тем нашим читателям, которым она пока еще недостаточно известна.
С самого начала встречи в фонде «Нораванк» мы договорились не затрагивать злободневных политических тем (президентские выборы и пр.), которым в армянских СМИ уделяется достаточно много внимания. Мы решили обсудить более концептуальные темы, а для начала - поговорить о самом фонде, представить его работу тем нашим читателям, которым она пока еще недостаточно известна.
Слово директору фонда Гагику Арутюняну.
Г.Арутюнян: Научно-образовательный фонд «Нораванк» создан в 2002 году по решению правительства с не очень ясными на тот момент задачами. Фондом руководит Совет попечителей, по уставу его председателем является премьер-министр Армении. Основателями и первыми попечителями «Нораванка» были ныне покойный премьер Андраник Маркарян, председатель Центробанка Тигран Саркисян и др. Задача была следующая: в республике должна действовать структура, генерирующая инновационные идеи, проекты, которые способствовали бы развитию Армении и Армянства.
К.Агекян: Политические идеи?
Г.Арутюнян: Не только... Все началось с периода поисков, когда не совсем ясно было, что делать. В какой-то момент пригласили меня, и мы немного изменили стиль работы. Будучи «естественником» по образованию, я понимал: чтобы делать дело, нужен механизм. И мы решили для начала создать дееспособную структуру, а потом уже разобраться, какие именно конкретные задачи она будет решать.
Сегодня структура «Нораванка» определяется четырьмя программами.
Вначале появилась программа политологических исследований поскольку я сам политолог, мне было легче всего начать именно с этой, крайне важной, программы. Для принятия более или менее адекватных решений в политической сфере Армении необходимо иметь адекватное представление о том, что творится в мире, в регионе. «Нораванк» не связан напрямую с принятием решений, но мы надеемся на позитивную роль того информационно-аналитического фона, который - скажу об этом без ложной скромности - мы создаем в государстве. Вообще нужно отметить, что через «Нораванк» в том или ином виде прошли, без всякого преувеличения, 50-60 процентов людей, которые имеют какой-то вес в Армении в профессиональном плане как политологи, историки, социологи.
Вторая программа - обществоведческие исследования. Мы надеялись создать структуру, которая будет заниматься проблемами, актуальными для армянского общества. Выяснилось, что ресурсы для этого требуются большие, и мы ограничились на сегодняшний день исследованием следующих проблем: армянские общины за рубежом, иноверные и иноязычные армяне. Мы занимаемся и другими исследованиями, но главная работа обществоведческой программы идет в русле этих двух тем. Немного подробнее о них расскажет Арутюн Марутян.
А.Марутян: Я этнограф по специальности, работаю также в Институте археологии и этнографии, в отделе этнологии современности. Одна из задач «Нораванка» периодически собирать материал об армянских общинах, концентрируя внимание в первую очередь на их современном состоянии.
Мы считаем, что армянские общины интересны не только внутренними процессами. Они имеют важное стратегическое значение с точки зрения национальной безопасности, и поэтому про них нужно знать как можно больше. Одна из наших сотрудниц занимается вопросами армянской общины в Грузии, в частности, в Тбилиси. У нас есть большой круг авторов, с которыми мы в постоянном контакте. После конференции по армянским общинам в 2007 г. нас активизировались контакты с представителями диаспоры на местах, в частности, на юге России.
Другая тема - иноверные и иноязычные армяне. Речь в первую очередь идет о присутствии армянского элемента в Республике Турция. Поскольку материал из Турции идет очень разнообразный и противоречивый, важно сохранять научную объективность. Сейчас там происходят очень интересные процессы, и мы стараемся держать руку на пульсе.
Необходимо рассматривать проблемы армянского присутствия за рубежом в более широком контексте, исследовать, где и как проходят ассимиляционные и интеграционные процессы, и т. п.
К.Агекян: Если не ошибаюсь, Вы также занимаетесь вопросами коллективной памяти.
А.Марутян: Да, вопросами памяти о Геноциде. Моя узкая специализация - роль коллективной памяти о Геноциде в Карабахском движении 1988-1990 гг. В 2006 г. издана моя книга «Память в структуре национальной идентичности», в журнале «XXI век» вышла статья по вопросу управления памятью. Как показывает опыт Карабахского движения, эта память часто находится как бы в спящем состоянии. Только после внешних или внутренних толчков, которые ее активизируют, она превращается в серьезный фактор.
Г.Арутюнян: Нынешняя внешняя политика Армении определяется как комплиментарная или взаимодополняющая. Как-то в беседе с одним американским экспертом мы определили, что она является следствием именно национальной памяти. Именно память заставляет нас понять, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. Это практический пример фактора национальной памяти...
Продолжу разговор о наших программах. Третья, самая новая - это учебная программа, которую ведет Арутюн Марутян. Наша цель - приобщить молодежь к новейшим знаниям в тех сферах, в которых работает «Нораванк». У нас начался цикл так называемых «Нораванковских чтений», пока предусмотрено примерно 40 лекций, с частотой раз в неделю. Но мы надеемся, что на самом деле их будет больше.
Четвертая программа - информационная, под руководством Севака Саруханяна. Ее цель популяризировать, издавать все то, что мы делаем. За последние пять лет в «Нораванке» было издано около 120 книг, журналов, отдельных брошюр, служебных бюллетеней. Мы издаем трехъязычный журнал «XXI век».
К.Агекян: Для аналитического фонда принципиально важный момент - это, конечно, независимость. Достижима ли она?
Г.Арутюнян: Наш центр действительно независим. Во-первых, мы траспарентны, то есть публикуем все результаты своей работы. Во-вторых, мы не получаем ни от кого установок. Мы получаем заказы, но это другое дело. Например, получили заказ от «Армросгазпрома» по исследованию вопроса энергетической безопасности Армении.
С.Саруханян: Тематика наших исследований в сфере энергетической безопасности, которые затрагивают национальные интересы Армении, совпала с интересами крупнейшей в Армении энергетической компании, национального оператора «Армросгазпром». Наша заинтересованность друг в друге была взаимной. С одной стороны, компания переходит к фазе развития в региональном масштабе, к превращению в трансрегиональную с учетом новых возможностей, связанных с сооружением газовой магистрали из Ирана в Армению. С другой стороны фонд не может не заниматься таким важным направлением национальной безопасности, как энергетическая безопасность. И мы решили вместе начать реализацию информационного проекта сотрудничества - проекта поддержки исследований, касающихся энергетической политики. Кроме прочего, он предполагает публикацию для компании «Армросгазпром» «Бюллетеней энергетика», где рассматриваются самые актуальные и важные процессы, затрагивающие энергетическую политику в Армении, на Южном Кавказе, а также те процессы за пределами страны, которые так или иначе касаются Армении, армянских интересов, армянского рынка потребления, армянских экспорта и импорта. У нас интересная практика сотрудничества не только с крупнейшей энергетической компанией в Армении.
Г.Арутюнян: Не имея собственных углеводородных энергоносителей, Армения обладает, по многим показателям, самой высокой степенью энергобезопасности в регионе. Это не в последнюю очередь заслуга интеллектуала высокой пробы - генерального директора «Армросгазпрома» Карена Карапетяна и его блестящей команды. Любопытно, что газоснабжение нашего населения находится на более высоком уровне, чем в России. Сегодня «Армросгазпром» уже институциональная, в определенном смысле сетевая для государства организация, а не просто бизнес-структура.
С.Саруханян: Последнее время мы стараемся больше координировать некоторые свои исследования с исследованиями за рубежом. У нас появляются статьи ведущих специалистов из России и других стран, поскольку энергетика сейчас имеет в первую очередь не национальное, а международное измерение. Мы стараемся сделать «Нораванк» площадкой для обсуждения вопросов энергетической безопасности не только для армянских экспертов, но и для экспертов различных стран.
Г.Арутюнян: Хочу продолжить разговор о независимости в исследовательской работе. Мы никак не ангажированы, но стараемся в меру наших сил объективно и непредвзято изложить ситуацию. Это высоко ценится и уже становится системой: при Президенте Армении создан Институт политических исследований, при Министерстве обороны - Национальный институт стратегических исследований имени Дро Канаяна. Таким образом, «Нораванк» уже не один, уже действуют три «think-tank»-a, которые в той или иной мере выдают аналитическую продукцию, используемую при принятии решений.
Вообще, в Армении действуют более 30 аналитических центров разного рода. Большинство из них работает на деньги международных организаций, и не всегда это способствует объективному анализу ситуации. Постоянно возникает мысль: чего они добиваются, проталкивая ту или иную идею? В этом плане создание собственной аналитической школы - очень важный момент, который говорит о состоятельности процесса становления армянской государственности. Другой критерий - появление в Армении партий с четкой идеологией. Речь идет не о такой традиционной партии, как АРФД, а о новых партиях. Например, Республиканская партия взяла за основу своей идеологии консерватизм. В этом плане наш анализ показывает, что на постсоветском пространстве в вопросе партийного строительства, партийной структуризации общества и его элиты Армения занимает ведущее место. Аналогов пока нет - даже в России «Единая Россия» не является партией как таковой, точно так же не была партией «Наш дом Россия». Минус Армении - отсутствие сильной состоявшейся партии социалистического толка. АРФД имеет какие-то социалистические представления, но функции и задачи этой партии намного шире и выше их можно назвать всеармянскими.
В Армении в прошлом году опубликовали и обсудили стратегию национальной безопасности, выработанную, в основном, людьми из института имени Дро Канаяна во главе с доктором политологических наук, генералом Айком Котанджяпом. Важно, что в выработке этой стратегии участвовали многие группы элиты. Однако нас беспокоит отсутствие внятной концепции информационной безопасности, которая охватывает всю интеллектуальную, духовную сферу - образование, религию и пр. Мы выдвигаем различные предложения и надеемся, что когда-нибудь сможем принять участие в создании концепции информационной безопасности Армении в XXI веке.
Наш разговор переключился на те важные понятия, которые «Нораванк» старается утвердить в армянском научном мышлении и армянском обществе.
Г.Арутюнян: Скажем, понятие локальной самобытной армянской цивилизации, которое никак не подразумевает изолированности и замкнутости. Как раз особенность армянской цивилизации заключается в том, что она одновременно открыта в сторону глобального мира и в то же время самобытна, имеет определенные внутренние ресурсы для выживания и развития в нынешних условиях.
Если раньше «холодная война» шла на уровне идеологий, сейчас она идет на уровне цивилизаций и культур, и в этой борьбе без понимания собственной идентичности будет крайне трудно. На наш взгляд, множество народов в итоге этих процессов формально останутся существовать, но уже не будут иметь собственного содержания. Подобные процессы происходили всегда, начиная, наверное, с походов Александра Македонского и даже раньше. Первым цивилизационным противостоянием лично я считаю противостояние Айка и Бэла. Но если раньше все происходило инстинктивно и интуитивно, то сейчас применяется системный подход, все поставлено на научную основу. Для выживания в таких условиях требуются определенные усилия.
Мы по всем понятиям подходим под определение самобытной цивилизации, и именно за счет этого ресурса может быть обеспечено наше развитие. Именно этот ресурс способен восполнить дефицит ресурсов материальных и ласт нам возможность быть в регионе лидером - по степени экономических свобод, независимости, состоятельности. Как ни странно, по степени нашей суверенности мы приближаемся к России, намного опережая Грузию и Азербайджан. Это несколько обнадеживает, но не более того. Мы понимаем, что лидерство в нашем регионе не так-то уж много значит. Армянская элита может рассчитывать и на более амбициозные проекты. Наш цивилизационный ресурс может помочь нам занять лучшие позиции и в мировом масштабе.
Важно понять логику развития политических процессов. Еще в 2003 году вышла статья «Холодная война-2», где мы определили нынешнюю ситуацию как новую холодную войну. Вся политическая логика происходящего и на региональном, и на глобальном уровне подчинена логике этой войны. Она стала многополярной и более жесткой, чем прежняя «холодная война». В ней тоже нужно иметь достаточные ресурсы для выживания.
К.Агекян: Хотелось бы поговорить о ситуации в Спюр-ке. Складывается впечатление, что другой эффективной структуры, кроме структуры церковных приходов в диаспоре так и не было создано. Там, где сильны позиции Церкви - например, в ближневосточной армянской диаспоре, там община достаточно действенна. Там, где происходила эрозия этих общин, происходила эрозия общины.
А.Марутян: Сейчас происходит переоценка представлений об армянских общинах. То, о чем вы говорите, действительно имело место вплоть до 50-х годов XX века. Сейчас идет перераспределение ролей. Если когда-то гак называемая община была в чем-то близка к гетто, сейчас она вырастает из этой скорлупы, идет интеграция членов общины в общество соответствующего государства. Армяне перестают быть церковной общиной и становятся в первую очередь гражданами страны. Лучший пример, наверное, армянская община США, которая начинает принимать все более активное участие в политике. Сам факт, что администрация президента США считает нужным выступать против резолюции о признании Геноцида, говорит о том, что армянская община становится фактором, влияющим на внешнюю политику самой мощной мировой державы. Церковная община не могла бы оказывать такое влияние.
К.Агекян: Вправе ли мы объединять всех армян США словом «армянская община»? Есть, конечно, активисты, но много и тех, у кого только армянская фамилия, не более.
Крупнейшие армянские организации в США часто занимают противоположные позиции по очень важным вопросам.
А.Марутян: Речь идет в первую очередь об армянских избирателях, которые своими голосами влияют на позицию конгрессменов и сенаторов. Конечно, не все играют активную роль. Но так или иначе, непосредственно или опосредованно, очень многие принимают в этом участие.
К.Агекян: Получается, если человек не делает больше ничего, а только голосует при выборах в Конгресс или в ходе «праймериз» с учетом позиции кандидатов по армянским вопросам, значит, он уже автоматически может считаться членом общины?
А.Марутян: Это очень объемный вопрос. На сегодня нет однозначных критериев члена общины. Если человек не участвует в армянских делах и не хочет участвовать, можно рассматривать его как человека армянского происхождения, как просто армянина, а не как члена армянской общины.
К.Агекян: Мне кажется, это важный момент для армян, проживающих в любой стране. Мы часто оперируем цифрами в миллион, в сотни тысяч. Казалось бы, огромная сила. Но какая доля этих людей давно ассимилирована или желает ассимилироваться, никак не соотносит себя с Арменией и Армянством?
А.Марутян: Есть и особые случаи. Скажем, так называемая армянская община Грузии. Ведь армяне живут в Грузии еще со времен Вахтанга Горгасала, и называть армян просто общиной было бы неверно. С другой стороны, как показывают события в Джавахке и Тбилиси, сейчас перед армянской общиной в Грузии стоит вопрос: взять курс на интеграцию в грузинское общество или жить обособленно? Если брать курс на интеграцию, значит, в том же Джавахке будут открываться грузинские школы, надо будет учить грузинский язык - и для продвижения по служебной лестнице, и для того чтобы твои депутаты могли представлять твои интересы. Если заниматься только сельским хозяйством, тогда тебе может и не стоит учиться грузинскому.
Этот вопрос имеет еще и другую сторону, потому что грузинские власти совершенно другими способами хотят внедрить грузинский язык.
Г.Арутюнян: Армянская цивилизация по своей сути дуалистична: она одновременно и открытая, и закрытая. Такая технология функционирования более сложна и не предполагает готовых решений. Для того чтобы стать весомым фактором как для страны проживания, так и для исторической родины армянские общины должны взять на вооружение именно такой дуализм. Активно интегрироваться в общество, активно повышать свой статус и в то же время сохранять свою самобытность, идентичность. Маргинальные структуры, в частности те, которые существуют как гетто, во-первых, не могут ни на что влиять, во-вторых, в сегодняшнем мире они очень быстро разрушаются. Вообще у любых жестких, негибких структур мало шансов на выживание.
К.Агекян: В связи с этим, наверное, действительно не стоит вводить какие-то жесткие критерии принадлежности к Армянству или членства в той или иной армянской общине. Они могут меняться как от страны к стране, так и в самой стране с течением времени. Важно каждый раз, когда мы высказываем суждения, пояснять, кого именно мы понимаем под членами общины.
Г.Арутюнян: В естественных науках существуют так называемые аналитические и численные решения. Аналитические подразумевают одну формулу, которая определяет все. В реальности такие формулы, как правило, не охватывают весь комплекс закономерностей и явлений и более чем редки. В целом все имеет некую неопределенность и численные решения. В каждом конкретном случае решается вопрос поведения, находится алгоритм. Я повторяю: это намного более сложная технология существования, но только она позволит решить проблему так, как мы ее понимаем. Армяне, как мы считаем, должны оставаться армянами. Но когда мы радуемся, что они становятся министрами, популярными певцами и пр., надо понимать, что это происходит благодаря тому обществу, где они проживают. Обретая более высокий статус, они, как правило, в состоянии сделать больше для Армянства в целом.
Два слова насчет грузинской действительности. Там..,, очень опасная ситуация. Как показали полевые исследования Тамары Варданян, руководительницы нашей программы по общинам, тбилисские армяне чувствуют себя в Тбилиси как в родном городе, и это, как ни странно, притупляет их инстинкт самосохранения, делает их беззащитными.
В целом, перспективы наших общин туманны, неопределенны и не внушают оптимизма. Поэтому мы считаем, что, занимаясь данной темой, мы занимаемся проблемами нашей национальной безопасности. В стратегии национальной безопасности наконец-то появились разумные слова о том, что понятие «национальная безопасность» относится не только к Республике Армения, но и к Армянству в целом. Это очень важно.
К.Агекян: Мы говорили об исторической памяти. Она крайне важна для национальной идентичности. Вообще, для идентичности необходима какая-то ось. Кто-то не хочет быть «потомком истребленных», для кого-то это самое важное в его армянской идентичности. Есть идентичность, обращенная в прошлое, и идентичность, ориентированная на будущее. Вокруг чего вообще может быть выстроена армянская идентичность? Вариантов не так много: Геноцид, армянская культура, армянская государственность, наше Отечество в целом - Армянское Нагорье. На сегодняшний день, по крайней мере, по моим впечатлениям, идентичность в Спюрке выстраивается вокруг Геноцида.
А.Марутян: Геноцид вряд ли когда-нибудь утратит свой осевой статус. «Нораванк» публикует статьи про опыт восприятия Холокоста еврейством. Для них историческая память, основанная на Холокосте, все еще является осью всех действий мирового и израильского еврейства. Иногда вопросы надо ставить чуть иначе, и тогда аспект ответа меняется. У тех же евреев три основных элемента исторической памяти: восстание Бар-Кохбы, оборона крепости Масада и события в Тель-Хаи в 1920 году, когда евреи всего один день противостояли арабам и отступили. Во всех трех случаях евреи потерпели поражение. Но именно эти моменты они смогли представить так, что каждый еврей, читающий об этом, становится намного сильнее, требовательнее к себе, чувствует себя хозяином своей страны. Если Геноцид представить с акцентом на сопротивлении, на том, что армяне сражались не только в Ване, Шатахе и Шапин-Карахиссаре, но и, например, в отдельных селах - сражались три дня, один день, несколько часов, оборонялись отдельными семьями, всеми возможными средствами защищали свое человеческое достоинство... Тогда возникнет общее понимание того, что мы тоже дрались, нас не резали, как овец. Наша историография никогда не концентрировала внимания на этих фактах. Для нее важны были крупные очаги сопротивления - Ван и т. д. Травматическая память, конечно, есть и всегда будет присутствовать. Но те же Яд-Вашем и Мемориальный музей Холокоста акцентируют внимание не только на потерях, но и на сопротивлении - еврейские партизанские отряды и т. д. То есть иногда нужно, оставляя ту же ось, менять акценты.
С.Саруханян: Ошибаются те армяне из традиционной диаспоры, которые считают себя потомками истребленных. Они потомки выживших. Это важная разница. И выживали армяне не потому, что кто-то из турок проявлял гуманизм. Выживали потому, что их родители оборонялись, их соседи оборонялись. Из-за сопротивления в городе кому-то хватило времени покинуть его. Таким образом, традиционная диаспора - это в первую очередь потомки тех, кто выжил в жесточайших условиях.
К.Агекян: Наверное, традиционные акценты были во многом неизбежны. Армянские беженцы, попавшие в Америку, в Европу, оказались в очень тяжелых условиях. Чтобы как-то выжить и получить некоторую помощь, они сами и местные общественные деятели, которые защищали их интересы, неизбежно должны были делать акцент не столько на сопротивлении, сколько на потерях, страданиях, на факте истребления.
А.Марутян: Тот же день Холокоста у евреев называется иначе: День Катастрофы и героизма.
Г.Арутюнян: Геноцид - это на сегодня действительно ключевое понятие, которое объединяет армян. Если вернуться к прежним моим словам об отсутствии аналитической формулы, можно сделать вывод, что идентичности, основанной на Геноциде, явно недостаточно. Память неизбежно угасает со временем, и нужно создавать (или возрождать) такие понятия, как Армянская Цивилизация, Армянское Нагорье и т. д. Что касается Геноцида... Да мы всем народом получили серьезнейшую травму. Но пора информационно осмыслить это дело и, как совершенно правильно говорит Арутюн, отыскать во всем этом некий позитив и заставить даже этот фактор работать на народ.
Существует универсальный принцип национальной безопасности - в любом явлении, любом процессе, даже самом негативном, заложена энергия, которую можно использовать с пользой для себя. Похоже, мы еще не научились это делать. Очень хороший пример: эпизоды и факты сопротивления. У нас сотни и тысячи таких эпизодов, которые никак не квалифицированы, не канонизированы, не являются элементом сознания Армянства в целом.
В этом контексте имеет смысл поговорить еще об одном проекте «Нораванка» под названием «Наши победы» -его первый том уже готов к изданию. Паши победы имеют очень долгую историю - более четырех с половиной тысяч лет, если вести отсчет от первых сражений и первых побед. Мы собираемся отразить весь этот цикл побед вплоть до наших времен, до взятия Шуши. Нужно отметить, что у армян было множество инноваций в военной стратегии и тактике, о которых мы сами не подозреваем.
Как раз когда мы говорим об информационной безопасности, мы имеем в виду именно такие технологии, которые позволят переосмыслить нашу историю, не приукрашивая ее. Позволят взять и использовать, заставить работать все позитивное, необходимое сегодня. Именно использовать, а не становиться рабом истории - это очень важно.
К.Агекян: Все преследования и гонения евреев в ходе мировой истории интерпретировались как следствие избранности, исключительности еврейства. У армян была совершенно другая идея: не исключительности, а включенности: мы тоже христиане, мы тоже индоевропейцы, мы тоже цивилизованные и пр.
А.Марутян: Но армяне всегда говорили, что мы первые христиане, что Армянское нагорье - прародина индоевропейцев.
К.Агекян: Однако не делали из этого необходимых выводов.
Г.Арутюнян: Почему бы нам тоже не думать таким образом? Понятно, что мы не будем совпадать в своих действиях с евреями, поскольку в цивилизационном и духовном плане мы во многом отличаемся друг от друга. Но именно это позволяет иметь похожие технологии.
К.Агекян: Вопрос, на который не нашлось ответа в фильме А.Эгояна «Арарат». Герой Ш.Азнавура спрашивает: «Почему нас так ненавидели?» У евреев не возникает проблем с ответом на этот вопрос: ненавидели потому, что мы самые... тут они могут перечислять много качеств, но в целом ответ можно свести к тому, что «мы богоизбранный народ». Прошу прощения за чрезмерно частое упоминание о еврействе, но мне кажется важным, говоря об армянских проблемах, всегда иметь нечто для сравнения. Например, говоря об армянской идентичности в диаспоре, о проблемах восприятия Геноцида невозможно игнорировать еврейский случай. Говоря о положении армян в Оттоманской империи, невозможно игнорировать болгарский, сербский, греческий случаи. Все познается в сравнении.
Естественно, и нас ненавидели и ненавидят, потому что мы лучше - это, в общем-то, очевидно. Но для нас такой ответ почему-то не самоочевиден.
А.Марутян: Нужно не забывать, что возрожденная еврейская государственность существует уже 60 лет. Они почти сразу же после совершения Холокоста могли говорить о нем все, что считали нужным. А мы здесь вплоть до 1990 года могли говорить только определенную часть правды. В Советском Союзе нам разрешали хранить память о Геноциде только как память травмы.
К.Агекян: Да - с 1965-го но 1990-й годы.
А.Марутян: Только после приобретения независимости мы начали говорить и о других элементах этой памяти.
К.Агекян: Дело не только в свободе говорить и писать. Это касается и войны в Арцахе. Когда мы захотели начать в журнале серию публикаций о героях последней войны, оказалось, что это очень непростая задача. Победы в этой войне в меньшей степени акцентируются, зато очень много материалов, к примеру, о той же операции «Кольцо», о депортациях. Существует своего рода армянская «политкорректность» - меньше писать о победах, больше о жертвах, страданиях. О наших победах, в том числе на освобожденных территориях Арцаха за пределами бывшей НКАО. о возмездии за совершенные против армян преступления надо говорить как можно больше, с абсолютной уверенностью в своем правом деле.
Г.Арутюнян: Материалы есть, делаются попытки. Но я согласен с тем, что это трудновато получается. Это опять-таки недостатки информационной политики, которую мы ведем. Есть, к примеру, образ погибшего в Карабахской войне Леонида Азгалдяна - человека в высшей степени духовного. Он реально, по всем параметрам подходит под канонического героя. Попытки делаются, но, похоже, история последних шестисот лет способствовала тому, что у нас оставалось мало позитивных воспоминаний. И даже эти годы побед в войне помнят почти исключительно как годы холода, голода. Холод и голод были на самом деле. Было очень тяжело. Но были ведь и блестящие победы, и эту память тоже надо культивировать.
К.Агекян: Культивировать образ народа-победителя, парода - освободителя своей земли, обретенный в Арцахской войне.
Г.Арутюнян: Элементарная вещь - в Баку есть аллея воинов-шахидов. куда водят все иностранные делегации.
А.Марутян: У нас их везут не на Ераблур, не в Сарда-рапат, а в музей Геноцида.
К.Агекян: Тут еще есть нюанс. Шахид это еще и мученик, погибший за веру.
Г.Арутюнян: Но воин-мученик.
А.Марутян: Это понятие есть и у нас: фидаи-мартирос.
Г.Арутюнян: В любом случае в образе шахида для азербайджанцев есть позитив.
К.Агекян: Да, так традиционно называют воинов, принявших неравный бой и погибших. Правда, самоотверженный героизм наши соседи понимают весьма своеобразно - речь идет о недельном погроме и грабеже армян, а потом о сопротивлении Народного фронта вводу в город советских войск, призванных восстановить «власть трудящихся», только уже без трудящихся армянской национальности.
Хочу вернуться к теме армянской идентичности. Мне кажется, в нее надо ввести больше современного. Сейчас армянская молодежь в диаспоре часто воспринимает все армянское как нечто старозаветное, сугубо этнографическое, имеющее слабую связь с сегодняшним днем. Все современное для них обычно связано не с армянским. Армянское в этом отношении выглядит неактуальным, выглядит неким дополнительным бременем, которое висит на молодом человеке, желающем быть как можно современнее. Оно не воспринимается как нечто, способное помочь молодому человеку стать более успешным. Если ты хочешь стать специалистом, ты должен получить образование на английском, французском, немецком, русском, читать литературу на этих же языках. Считается, что в крупной преуспевающей фирме работа идет на одном из этих же языков. Можно добавить еще японский, китайский.
А как сегодня воспринимается многими в диаспоре армянское, если вычесть все, связанное с прошлым? Пару раз в год пойти в ресторан армянской кухни, купить и повесить на стенку картинку с Араратом.
Г.Арутюнян: Совершенно верно. Тут есть некий парадокс. В советское время Армения для диаспоры ассоциировалась с некоей мощью, потому что была составной частью мощнейшего государства. Посещая Армению, они посещали могучую страну. И вес Еревана был больше, чем сейчас, когда он стал столицей независимого государства с не самыми лучшими пока социальными и экономическими показателями. Конечно, никакими информационными технологиями здесь не поможешь. Эта проблема, о которой вы говорите, окончательно исчезнет только тогда, когда Армения станет передовым государством и будет генерировать идеи, на которые следует равняться всем. Глобальное решение только одно - формирование мощной Армении. Быть армянином должно быть выгодно пока это не везде и не совсем выгодно, скажем так.
К.Агекян: В современном мире важны ярлыки, пусть даже не совсем адекватные действительности. Допустим, кто-то придумал назвать Армянство «сетевым сообществом», кто-то другой может назвать «этнокорпорацией». Большой вопрос, насколько все это соответствует действительности. Однако нужен красивый ярлык, который будет хотя бы отчасти иметь отношение к реальности, как вектор движения, и поможет молодому человеку ощутить себя частью чего-то очень современного.
Г.Арутюнян: Пожалуй, это неплохой ярлык - «сетевое сообщество». Как слоган он вполне удачен.
К.Агекян: В связи с этим хочу спросить о глобализации, которую в Армении часто воспринимают как некое пугало. Нет ли в глобализации, наоборот, каких-то очень серьезных шансов для такого народа, как наш? Стоит ли ее бояться?
Г.Арутюнян: Да, есть тенденция подобных отрицательных оценок. Очевидно, что глобализация - это и вызов, и возможности. Все зависит от того, насколько ты сможешь противостоять вызовам и использовать возможности. Мы в «Нораванке» рассматриваем глобализацию также и как культурную, геополитическую, геоэкономическую экспансию. Например, Советский Союз был полностью глобализированной империей. Такой же глобальной структурой был Рим. Сейчас это приняло еще больший, планетный, масштаб.
А.Марутян: Помните советский тезис: «национальное по форме, социалистическое по содержанию»? Вот если вы сейчас пройдете по улице Абовян - от Шрджанаин и ниже, то увидите вывески магазинов на английском, русском, армянском языках. Названия ориентированы на западную культуру, западные ценности. Но когда вы заходите в эти магазины, там все армянское - и обслуживание, и товары, что не совсем соответствует вывеске. Сейчас армянское общество находится примерно в таком же состоянии. Оно по форме глобальное, но по сути национальное.
Армяне всегда умели брать и переваривать. Оболочка есть, но внутри этой оболочки все прежнее. Это я вам привел пример как этнограф. Я часто предлагаю своим студентам написать курсовую на материале улицы Абовян и проспекта Маштоца.
К.Агекян: Сопутствующий вопрос, хотя, возможно, он один из главных. Есть представление об Армянстве как посреднике между цивилизациями, есть представление об Армянстве как о некоем Центре. Эту роль Центра оно в силу внутренних и внешних обстоятельств некогда утратило фактически, не сохранило потенциально и может ее вернуть. Вы в своих концепциях рассматриваете все же Армянство как Центр или как посредника? Или как нечто третье?
Г.Арутюнян: Быть посредником, по-моему, опасный слоган. Не тот слоган, который нам нужен. Здесь очень уместен дуализм, о котором я уже говорил. Да, мы - самостоятельная Цивилизация, мы - Центр. Но мы также обладаем способностью находить общий язык с другими цивилизациями - это является одним из универсальных элементов нашей Цивилизации. В противном случае, если считать себя только посредником... Кто такой посредник - это человек, который не имеет собственного бизнеса и только сводит между собой других людей. Это опасное представление. Да, мы имеем свойство быть посредником, быть толмачом. Я так и написал в одной из своих статей, что мы отчасти толмачи, переводчики. Но это только один из наших нецивилизационных параметров, не более того. Мы осуществляем также цивилизационную экспансию. Наша культура, в частности, наша архитектура, присутствует во всем мире - хотя бы через строительство церквей. Представители любого народа, попадая в армянскую среду, быстро становятся армянами, то есть мы имеем способность ассимилировать. Я смотрю на Армению как на самостоятельный Центр, который может гибко вести себя в разных условиях.
К.Агекян: Можно выбрать разные системы координат л точки отсчета. В том числе и такие, которые не позволяют считать Армению Центром. Это вопрос сше и нравственного выбора.
Г.Арутюнян: Некое внутреннее чувство. Отсутствие такого внутреннего чувства и порождает те комплексы, о которых мы говорили. Несмотря на наши победы, нет ощущения победителя, остается ощущение побежденного. Такой подход непродуктивен.
А.Марутян: Мне кажется, с затронутыми нами темами связан также и проект репатриации, который поддерживает «Нораванк».
Г.Арутюнян: Готовиться к этому надо. Мы не говорим: давайте завтра организуем репатриацию. Но думать об этом, понимать, что это такое, нужно уже сегодня. Есть проект закона, созданный в общественной организации землячеств «Еркир». Мы поддерживаем создание этого проекта, развитие представлений о репатриации, поскольку думаем, что Армянство в целом может выжить исключительно благодаря репатриации.
К.Агекян: Поскольку у нас русскоязычный журнал и большинство наших армянских читателей проживают сегодня в России, не могу не задать вопроса о Вашем видении армяно-российских отношений.
Г.Арутюнян: Скажем так. В армянском общественном сознании Россия всегда воспринимается крайне позитивно. И это имеет объективные основания. Похоже, что и на самом высшем уровне элиты обоих государств это сознание тоже присутствует, что позволяет находить правильные решения. В нашей стратегии национальной безопасности только Россия указана как страна, с которой мы имеем союзнические отношения. Армения тоже обозначена среди союзных государств в российской внешнеполитической доктрине, которая недавно была издана.
Есть проблемы среди элит. Мы многое потеряли в аспекте культурных и научных связей, двусторонние культурные мероприятия не носят системного характера. У нашего экспертного сообщества отношение к России часто негативное, зато у среднего члена общества - пока положительное. И, похоже, формируется некий отрицательный стереотип в отношении России, ведь известно, что экспертное сообщество во многом формирует понятия и представления общества в целом. Это серьезнейшая проблема.
К.Агекян: В нашем журнале проходило обсуждение конфессиональных взаимоотношений. Просматривается та же самая модель - на уровне руководителей, высших иерархов отношения прекрасные. Давно уже прошел богословский диалог, в результате которого взаимно признана ортодоксальность, сняты обвинения в ереси. Но на уровне рядового священства положение, наоборот, резко изменилось к худшему. Православные священники воспринимают армян как еретиков, не позволяют быть крестными, требуют чуть ли не перекрещиваться в случае браков с прихожанами РПЦ.
Г.Арутюнян: Более того, в православной церкви в Ереване во время ежегодного молебна 24 апреля молятся исключительно за тех православных (не за подавляющее большинство армян), которые погибли в годы Геноцида.
К.Агекян: Получается, что на бумаге вес замечательно, на уровне официальных контактов все прекрасно, а на уровне рядовых людей совершенно иная картина - живя в России и вступая в контакты с православным священством, они ощущают себя чуть ли не изгоями. У некоторых возникает желание перейти в доминирующую конфессию, поскольку они вообще имеют слабое понятие о вероучении ААЦ. Боюсь, что такая же модель сегодня применима не только для ситуации в религиозной сфере.
Г.Арутюнян: Надо найти взаимоприемлемый подход, позволяющий поддерживать дружественные отношения на пользу как России, так и Армении. Это верно и для взаимоотношений с Западом. Здесь картина такова: экспертное сообщество настроено положительно. Высшее руководство тоже находит неплохой общий язык, но в сознании общества Запад ассоциируется с безнравственностью, гомосексуализмом и пр. Я всем говорю, что с Запада нужно брать технологии, мы в первую очередь должны научиться работать так же, как работают люди на Западе.
К.Агекян: Создается впечатление, что мы хотели бы принадлежать Европе в смысле социальной, технологической и бытовой культуры, не разделяя или не вполне разделяя порождающих эту культуру идей. Мы тут не одиноки - в разной степени это относится, например, к России, Турции, Грузии, Азербайджану и др. Согласны ли Вы с такой оценкой?
Г.Арутюнян: Да, согласен.
А.Марутян: Вопрос очень объемный и требует отдельного разговора.
В нашем разговоре мы действительно предпочли затронуть широкий круг тем, понимая, что не сможем охватить их в полной мере, только обозначим. Сам перечень этих тем показывает, насколько важна сейчас для Армении работа профессиональных политологов, социологов, этнопсихологов. Важно и то, чтобы к рекомендациям специалистов, в том числе экспертов из «Нораванка», прислушивались те, на ком лежит ответственность за принятие решений.
В ходе беседы редакция журнала не ставила себе целью каждый раз обозначать собственную позицию, свою оценку - для этого существует формат конференций, «круглых столов» и т. д. В нашем материале мы хотели прежде всего рассказать о концептуальных основах работы центра «Нораванк» - самого авторитетного на сегодняшний день аналитического центра в Армении.
Журнал «Анив», №1(16) 2008г.
Возврат к списку
